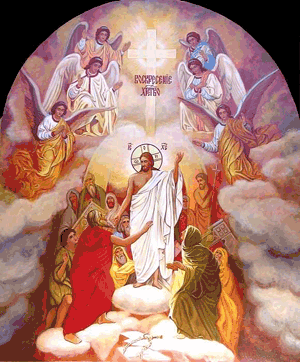«Не бойтесь Соловков. Там Христос близко».
М. Нестеров
Если, разговаривая с надзирателем, не стал во фронт, если умничает, если держит себя развязно — в «крикушник», в сарай ветряной из тонких досок. Ни сесть не на чем, ни полежать. И печки нет. А то еще выроют яму в земле метра три глубиной — тоже «крикушник». «Прыгай», — говорят арестанту. Это туда. А назад — шест подадут. По нему и выползет, если сил хватит.
Был еще «мешок» каменный. Подведут к нему «социально опасного» и спрашивают: «Как хочешь влезть — вперед головой или ногами?» Если лезет вниз головой, то бьют дубиной по спине и ногам, если вниз ногами — колотят по голове, пока весь не вползет.
Еще ставили на ребристый валун — не устоишь, а летом на пеньки голым — на скормку комарам. Самые стойкие в обморок падали. Еще и в болота загоняли по голову. Но хлопотно. Нужно было следить за такими. Чтобы не следить, придумали привязывать раздетыми к дереву. И вот еще способ: привяжут к лошади ноги виновного и станут гонять животное по вырубке, где пни и поваленные деревья. Отвязывали от лошади уже не человека — ошметки.
В карцерах на Секирной горе заставляли сидеть на жердях. Жерди от стены до стены и толщиной в руку, высотой — ногами до земли не достанешь. Помаешься на такой жердочке! А не удержишься, свалишься — тут уж бегут к тебе надзиратели для мордобития. Либо по-другому еще: выведут на лестницу, что монахи вырубили от собора к озеру, привяжут к бревну и столкнут. Так и скатится вниз, весь расплющенный.
Ночью не заставляли сидеть. Можно было спать на полу. Но по множеству людей друг на друга ложились. И в тесноте этой все время крутились. От середины — к краю и от краю вновь к середине. Согреется человек от чужих тел — и вытолкнут его наружу, к стене. А дальше уж сам он старается, лезет в тепло. Пищи — граммов 200 хлeба в день и вода. За двe недeли человeк десять мертвыми унесли. Так это осенью! А зимой — не дай Бог!
Было так, что и спать не давали. Выведут роту на улицу и положат в снег. Финкельштейн раз на Красную горку 34 человека поставил на ночь на лед за невыполнение «урока». Кто-то погиб потом в лазарете, кому-то пришлось ампутировать ноги… Сосланных на Соловки сектантов голодом уморили. Отсылая на пустынный остров, не согласились выдать им паек без росписи в ведомости. Тех, разумеется, расписаться где-либо заставить было невозможно.
«Но кормят же сумасшедших, не требуя от них расписок!» — возмущались сердобольные заключенные. Просились даже, чтобы отправили их с сектантами — вести отчет по продуктам, но начальник лагеря в ответ лишь смеялся… Через два месяца, когда прошел срок первым ведомостям, явились на остров от начальства, чтобы вновь предложить сектантам расписаться за следующие два месяца, но расписываться было уже некому. От людей к тому времени остались лишь трупы расклеванные...
Мерли везде по «командировкам» — как мухи по осени. Снимут с таких одежду и обувь и голыми — в огромные ямы. Еще с осени ямы готовят и всю зиму мертвых бросают. Закапывают только весной... А расстреливали когда — старались днем, показательно. Зачем же тихо?! В дневной густоте и пуля каждая имеет воспитательное значение. Она не одного, а как бы десяток сразу сражает.
Расстреливали чаще за женбараком. Дорога мимо него так и называлась расстрельной. Смотришь — ведут по ней человека босиком, в одном белье. Это чтобы не пропало обмундирование. Руки связаны за спиной, и последнюю папироску курит без их помощи, одними губами...
А что и живым? Та же смерть, сдобренная страданиями. Каторжный труд с комарами: голова, шея, руки — расчесанное все до крови, лицо опухшее, взглянуть страшно. Зимой холод непереносимый, еще и недоедание, цинга... Смерть не кара уже, а избавление. Закинет бедолага веревку на обледенелое дерево или под подрубленную сосну, прыгнет — вот и конец мучениям. «Туда ему и дорога!» — заржет охранник и разгонит собравшуюся вокруг толпу.
Были и саморубы. Отрубят пальцы себе или всю кисть. Но не спасало. Били вначале крепко, потом к лекарю для нехитрой помощи и снова в лес на работу: «Ты думаешь, контра, избавился от работы? Не можешь рубить, так пилить будешь».
Сектантов на Соловках поморили при Зарине. А первым начальником был матрос Ногтев с той самой «Авроры». Физиономия была зверской, пил страшно. Большой был затейник. Встречал арестантов с начальником оперчасти Буйкисом уже на пристани. Сходит новый этап с парохода, а они по нему стрельбу из карабинов. И норма была — десять человек.
Особо не любил Ногтев священников. Увидит и заорет матерно: «Эй, опиум для народа! Подай бороду вперед, глаза в небеса. Скоро Бога увидишь!»
Раз по весне к схимнику одному древнему, в глухом затворе спасавшемуся, подкатил на коне с товарищами. Бутылка водки в руках, и все хмельные уже, на ногах не стоят. Сбил затвор на дверях и к чернецу тому с матом: «Попостился, распросвятой отец-опиум, и хватит. Теперь, брат, свобода! Бога твоего отменили декретом... На-ка, выпей со мной!» И стакан подает старцу. Встал старец с колен от лампадки и молча земной поклон Ногтеву положил, как покойнику, а поднявшись, на открытый свой гроб указал: и тебя не минует. Переменился Ногтев в лице, бутыль за дверь кинул, сел на коня и ускакал. Пил потом месяц без продыху...
К живому Ногтеву вернемся еще, а прореченного старцем не пришлось особенно долго ждать. Прознала насланная из Москвы комиссия, что Ногтев серебряных херувимов с иконостаса продал, и расстреляли его, раба Божьего, про «Аврору» не вспомнив... Зарин, уморивший сектантов, десятью годами отделался. За либерализм! Так рассказывают...
Не только телесные страдания пришлось переносить священникам. На святой для них Соловецкой земле с болью видели они ежечасно, как глумилась новая власть над святынями. Храмы, переделанные в казармы, выщербленные пулями колокола, иконы, порубленные на дрова, отхожие места и карцеры в алтарях...
Нужда справлялась у всех на глазах и под нетерпеливые возгласы: «А ну-ка, ты, длинногривый! Слезай с кадушки! Засиделся!» Наполненные нечистотами ушата выносились в «центроуборную» — метров сто по крутым ступеням. Палку в проушины и двум зэкам на плечи. Отбирали для такой работы обязательно чисто одетых — «длинногривых» священников и следивших за собой «гнилых» интеллигентов. Куражась, уголовники еще и подножки ставили, чтобы расплескать содержимое. Все пролитое нужно было собрать тряпками.
Первые годы священникам разрешали носить рясы. В 1929 г. всем им приказали остричься и сменить одежду на светскую — ношеные бушлаты. Тех, кто отказывался, отправляли в штрафные «командировки» или брили и стригли насильно и наголо.
А с кем и боролись-то?! Раз в забитую камеру, уже растиснувшуюся на ночлег, ввели какого-то древнего старца. Впереди под ногами у него десятки людей, но он словно и не видит их, голову прямо держит. «На-ко вот, принимай старика, — с видимой неловкостью передает охранник старшему по камере нового арестанта. — Ну, держи, чего там...»
Звякнул закрывающийся замок. Старик переступил с ноги на ногу, попробовал повернуться, и по его неуверенным движениям все вдруг заметили, что старик слеп. От неожиданности привычные в таких случаях ругательства застыли у уголовников на губах. «Мир дому сему», — поклонился старик, и никто не решился ему ответить. Показалось многим, что и не обыкновенный это старик, а угодник Божий, сошедший с древней иконы. «А откуда вас, дедушка, везут-то?» — несмело спросил кто-то. «Да издалека, сынок, с Нового Афона... Я там схимником в горах жил». — «Господи Боже! Да за что же сюда-то?» — «Да не знаю. Какой с меня вред? А вот все возят по тюрьмам. Три годочка назначили...» — «Соловков?» — «Дал бы Господь, чтобы туда послали. У нас, на Афоне-то, — юг, море синее... А на Соловках тихо все, бедно. А монаху-то суровое да бедное — для души-то легче. Вот и привел Господь. Там и умереть теперь легче будет...»
«А много вас, священников-то, на островe? — спрашивали у еще одного старика.
«Да нет теперь и слова такого, — отвечал он, — „служителями культа“ называемся. Еще „попами“ зовут насмешливо. А много ли? Много... Митрополит вот, Илларион, архиепископы, епископы архиереи... Одних православных больше 200 человeк... Да и других много — ксендзы, пасторы, муллы. Раввинов даже нeсколько есть... Да и как же настоящий священник не будет их врагом? Мысль у него и вeра! Взрывчатое вещество! Нельзя заглушить плевелами, вот и шлют».
«Сами-то за что попали?»
«Да как сказать? За красноречие, что ли? Но так думаю: за то, за другое — все равно посадили бы... Прихожане, хороший у меня был приход в Замоскворечье, в Москве, сообщили мне как-то, что в театре на диспуте сам Луначарский выступать будет. Ну и пойдите, говорят, батюшка, пойдите. За души-то побороться нужно. Ну и пошел.
Народу — яблоку негде упасть, словно в церкви на Пасху. „Все это чепуха и происки, — кричит Луначарский с трибуны, — детские сказки! Ни одна наука не доказала существования души. Смeшно в наш вeк электричества вeрить в то, что не найдено. И все эти разговоры о духе и душе — настоящий бред дураков“. Ну и взорвало меня. Каюсь... Выскочил на трибуну. Позвольте, говорю, глубокоуважаемый комиссар, рассказать вам недавний свой сон. А приснилось мнe, что умерли вы. Сон это только, не пугайтесь, продолжаю, приметив, как побледнел Анатолий Васильич и умолк от изумления зал. — Вот ведь этакое горе-то и приснилось, скажите на милость... Ну да, дорасскажу. И завeщал наш нарком перед смертью отдать свое тeло анатомическому театру — пусть, мол, поучатся студенты...
Ну и начали они резать. Скоро все на части и раздeлили: желудок, сердце, печень, мозг. Есть все. Принялись и ум тут искать, души нет, но ум, кажись, в наркоме-то должен быть! И вот вeдь какая коллизия-то вышла: сколько ни искали ум-то, так и не нашли... Вот, прости Господи, какие сны глупые бывают...
Эти последние-то слова я уж под хохот всего зала говорил, и очень не понравилось это товарищу Луначарскому. Ну а дальше, что и рассказывать? Дня через два ночью — чекисты с ордером... А теперь, вот видите, здесь, и живым отсюда не выйду. Развe ж нам, старикам, отсюда живыми выйти?»
Помимо трудной была в лагере работа сравнительно легкая, к тому же сытая — резать хлеб, выдавать продукты. Пробовали назначать на эту работу близких начальству стукачей и сексотов, но проходил месяц-другой и все они попадались на воровстве. Подыскивали других — результат тот же. Решились наконец привлечь к такому труду духовенство. Епископа Глеба сделали каптером на Петр-озере, епископа Василия — на лесозаготовках, ну и в других местах «тако же». И исправилось дело: ни обвешиваний, ни обсчетов. «Дармоеды», «обманщики» и «эксплуататоры» оказались на деле безупречными работниками.
О епископе Илларионе, богослове, ближайшем помощнике патриарха Тихона, тоже оказавшемся на Соловках, рассказывают всегда особо. Молодой, сильный. Самая его внешность была чрезвычайно привлекательной — богатырский рост, белокурая борода, иконописные черты лица. «Вот настоящий русский святитель», — невольно приходила мысль каждому, кто видел владыку Иллариона. В лагере он сделался рыбаком, и это не вызывало в нем никакого уныния. Он даже шутил по этому поводу: «Вот вся подает Дух Святый — прежде рыбари богословцы показа, а теперь, наоборот, богословцы рыбари показа».
В один из весенних дней, когда море накрыла шуга, оказался он со своей бригадой на пристани. Тут же суетилась охрана, не отрывая глаз от биноклей. «Четверо в лодке, — объявил чекист, начальник поста, — должно и сам Сухов… Он охотник смелый, а сейчас белухи идут. Каждому лестно такое чудище взять. Ну и рискнул!»
«Пропадут ведь душеньки их, пропадут», — запричитал старый монах, заметив вдали едва приметную точку.
«Так не вырваться им, говоришь?» — спросил монаха чекист.
«Случая такого не бывало, чтобы из шуги на гребном карбасе выходили. Ухватит и унесет!»
«Да, куда уж там вырваться, согласился чекист. — Амба! Пиши военкома в расход!»
«Ну, это еще как Бог даст, — выступил из толпы владыка Илларион. — Ну, кто со мной?»
И, обведя глазами толпу, скомандовал: «Ты, отец Спиридон, ты, отец Тихон, да вот вас двое. Волоките карбас на море!»
Спустились сумерки. За ними ночь. Но никто так и не ушел с пристани. Шептались и сомневались: «Никто, как Бог!» Еще шептались и еще молились: «Его воля!» Но только утром сквозь стену тумана разглядели возвращавшуюся к пристани лодку. И в ней не только спасателей, но и спасенных. И среди спасенных вытащили на берег вконец обессилевшего военкома Сухова, расстрелявшего незадолго перед тем самого... Иисуса Христа. Возвращаясь с охоты, он выпалил сразу из двух стволов в стоявшее у дороги распятие: «Получи, товарищ!» И подойдя ближе, улыбнулся довольно: кучно легли. Все 16 картечин в мишени.
На Страстной, уже после спасения, шел он с одним из зэков мимо того же распятия. И вдруг, сдернув буденовку, торопливо перекрестился. «Чтоб никому ни слова, — обернулся он к заключенному, — а то сгною! День-то какой знаешь сегодня? Суббота. Страстная!»
В один из годов Пасха на Соловках выпала на майские праздники. Встретить их готовились с всегдашним размахом: собранных плотников бросили сооружать какую-то фантастическую триумфальную арку, женщин заставили вязать гирлянды из ельника, лагерным художникам выдали по большой банке белил для кумачовых работ, а на сохранившемся с дореволюционных времен амвоне лагерный хор приступил к спевкам. Нужно было еще очистить на улице площадь для митинга. Работа тяжелая, не всем по плечу. Слежавшийся снег утрамбовался, заледенел, и взять его можно было только ломами.
Отобрать бы тут людей посильнее, но шла Страстная, и лагерное начальство кстати вспомнило о «попах». И вот, в Великий четверг — совсем, по-видимому, не случайно затребованы были в Анзер высшие иерархи. И их пригнали, одинаково изнуренных, одинаково неприспособленных к грубой работе. Четырнадцать человек. И в полном молчании они принялись за дело: скалывали ломами куски снега и льда, складывали все это в носилки и, оттаскивая, сбрасывали в овраг.
Потом внизу, у нагорного берега, брали из-под откоса желтый песок и, нагрузив им телегу, с невероятным трудом, соединившиеся в одном усилии, еще молодой, но очень близорукий, видимо, католический епископ и ветхий старичок с белой бородкой, православный, и все, все четырнадцать изможденных тел, облепившие телегу, падавшие и со вздохами спешащие подняться, втаскивали ее вверх на расчищенную площадь...
Вначале в женской «кустарке», а потом и по всему зданию всякая работа была брошена. Столпившиеся у окон заключенные от тяжелых мыслей понурили головы, бывшие же тут монашки плакали и причитали: «Господи, Господи! И это в Великий четверг!»
К вечеру площадь была выровнена и густо усыпана золотистым песком. Священники, аккуратно сложив ломы и лопаты, собрались в круг. Их было тринадцать. Четырнадцатый лежал на постеленном кем-то куске брезента с руками, сложенными крестом на груди. Подбежал Ногтев, толкнул усопшего старичка ногой в бок, нагнулся и, потянув за седую бороду, хмельно ухмыльнулся: «Не думай, опиум! Соловецкая власть тебя и из рая за бороду вытащит!» «Ну, хоть не с пустыми руками возвращаться будете!» — повернулся он к остальным...
Ночью повалил на Анзере густой снег, и шел он, не переставая, до самого утра, покрыв белой пеленой лед на заливе, прибрежные холмы и покрытую золотым песком площадь. В Пасху этот снег еще блестел ослепительно, но в воздухе уже пахло весной. Склонившееся над Соловецким лагерем бездонное белесое небо, слившееся с укрытой снегом землей, захватывало и уносило глядевших в него несчастных людей в далекую даль светлую, в которой таяли и исчезали все их земные страдания.
Христос Воскресе!
(Из воспоминаний узников)